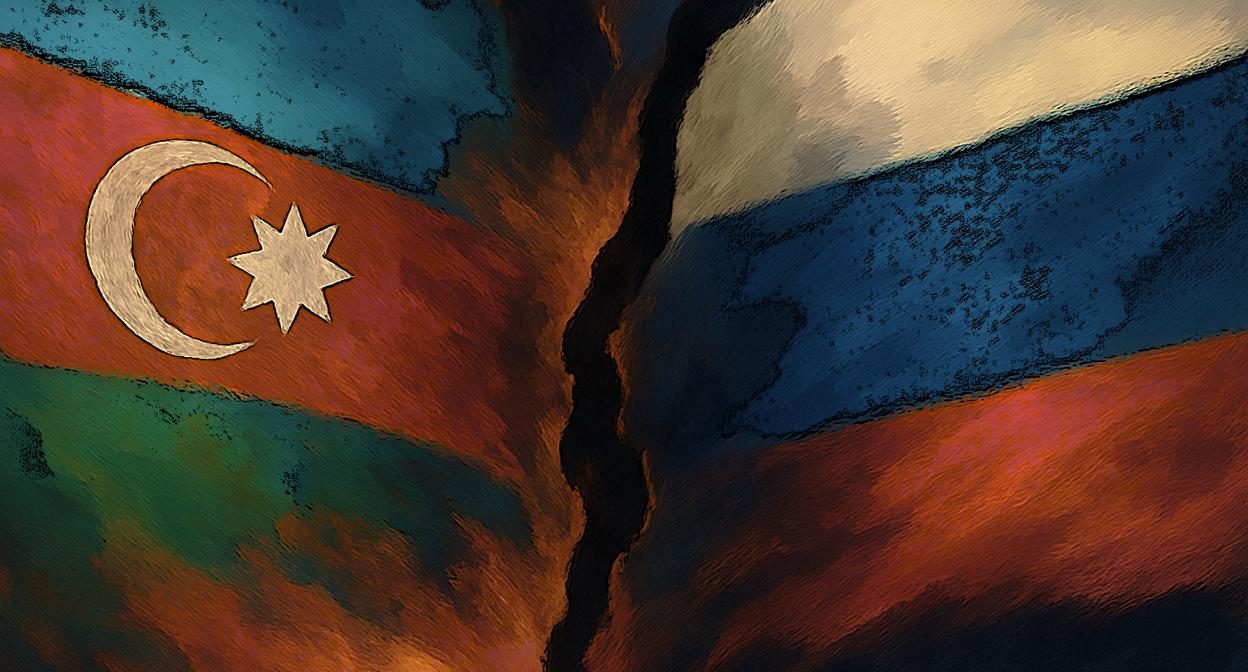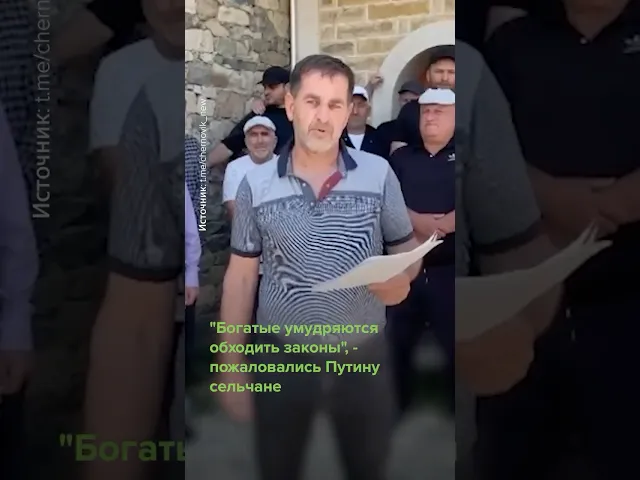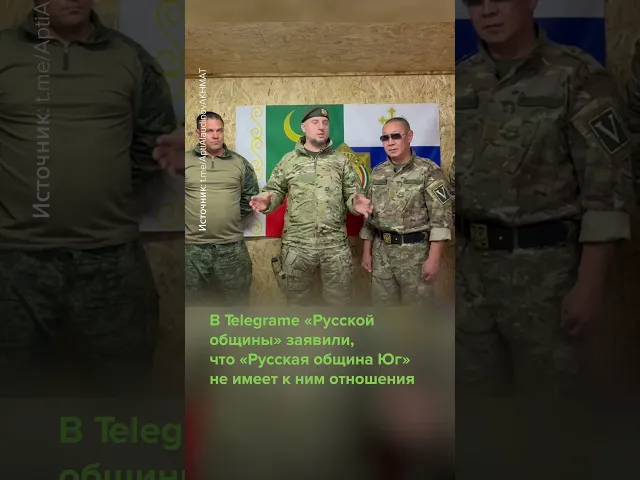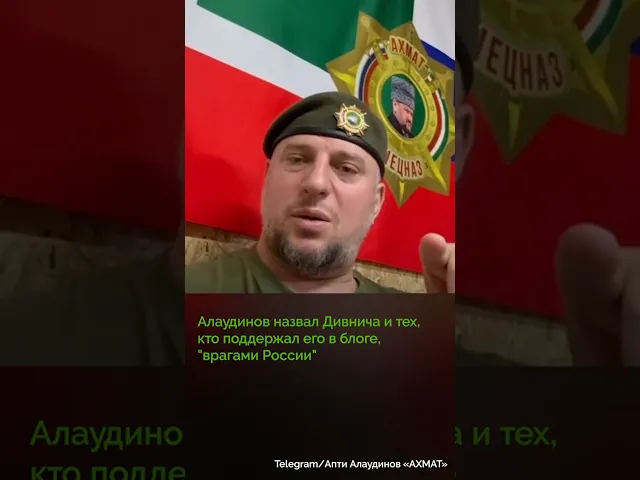Потомки депортированных поволжских немцев рассказали о судьбах своих родных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Волгоградской области официально не объявлялось о мероприятиях по случаю годовщины депортации поволжских немцев. Потомки депортированных назвали эти события трагедией, которая поломала судьбы многих семей.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года потомки репрессированных рассказали, что и спустя 80 лет после депортации поволжских немцев из Волгограда остается открытым вопрос об обоснованности действий советских властей. Часть депортированных после возвращения нашли свои дома занятыми и поселились на других территориях, рассказали члены немецкой общины в селе Верхний Еруслан Волгоградской области.
Автономная республика немцев Поволжья была ликвидирована на второй месяц после вторжения немецих войск в СССР. 28 августа 1941 года президиум Верховного совета СССР издал указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. По этому указу около миллиона человек было выслано в Казахстан, Сибирь и Среднюю Азию, другие были мобилизованы в трудовые армии. Депортированные и мобилизованные немцы массово погибали от истощения, болезней и невыносимых условий труда и быта.
Председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Максим Баннов, отвечая на запрос "Кавказского узла", сообщил, что по данным на 25 августа "заявок на согласование проведения каких-либо мероприятий, посвященных памяти жертв депортации немцев Поволжья, от общественных организаций или инициативных групп граждан в администрацию Волгограда не поступало". Также корреспонденту "Кавказского узла" в музее-заповеднике немецкой культуры "Старая Сарепта" (Волгоград) сообщили, что никаких мероприятий, посвященных этой скорбной дате, у них проводиться не будет.
Получить информацию в общественной организации Национально-культурной автономии немцев Волгограда не удалось, так как их телефоны не отвечали.
Волгоградский историк Андрей Кудинов считает, что мероприятия, посвященные жертвам сталинских репрессий и депортаций, в последние годы в Волгограде "не в чести".
"На темы репрессий, сталинского террора, депортаций говорить в последнее время не то что не принято, но и небезопасно. Можно легко угодить под какое-нибудь оправдание экстремизма или нацизма. Если раньше администрация города и области сама организовывала акции памяти жертв сталинского террора, то с недавних пор ничего подобного уже не происходит", - сказал Андрей Кудинов.
Корреспондент "Кавказского узла" опросил потомков немецких колонистов, депортированных из Нижневолжского региона в августе 1941 года. Журналиста интересовали ответы на вопросы: оказывали и оказывают ли российские власти помощь организациям и самим потомкам репрессированных, есть ли какие-то выплаты.
 Надя Хорн - потомок немцев Поволжья. Она проживает сейчас в Германии. Она переехала в ФРГ со своей семьей со статусом "поздних переселенцев". Члены ее семьи покидали Россию постепенно - в разные годы. Первые уехали в 1993 году.
Надя Хорн - потомок немцев Поволжья. Она проживает сейчас в Германии. Она переехала в ФРГ со своей семьей со статусом "поздних переселенцев". Члены ее семьи покидали Россию постепенно - в разные годы. Первые уехали в 1993 году.
"Вся моя семья живёт в Германии. Никакой помощи от российских властей мы никогда не получали. В Германии по приезду была получена помощь, чем позднее был переезд, тем меньше была компенсация", - рассказала Надя.
Алина Либерман сообщила журналисту, что она не знает про организации немцев в России. Ее дедушка, прошедший через депортацию, никаких выплат от российского государства не получал. "У деда есть статус реабилитированного, льгот нет. Говорит, что сам никуда не обращался в силу характера. Возможно, мог бы получать. По крайней мере, слышал, что когда-то было возможно. Про такие организации ни я, ни дедушка не знаем, но давно (лет 30 назад) знакомая женщина-немка ходила и что-то узнавала по вопросам реабилитации, льгот и т. п. Опять же дед не уверен, была это общественная организация помощи или просто какой-то орган власти", - сказала девушка.
Елена Эмрих также проживает с недавних пор в Германии. Она сообщила журналисту, что, по данным ее мамы, родственники в России получают компенсационные выплаты в размере около 2000 рублей в месяц. У ее мамы также имеется удостоверение о реабилитации.
"И иногда бесплатный проход в музеи либо льготный билет. 50% за коммунальные платежи возвращают. И оплачивают один раз в год проезд по России, куда хочешь, но на поездах", - сообщила девушка.
 Она знает о двух крупных организациях российских немцев, которые, по ее мнению, наиболее известны и влиятельны среди ее диаспоры. Это Международный союз немецкой культуры (МСНК) и "профильные объединения, включая Немецкое молодежное объединение (НМО)".
Она знает о двух крупных организациях российских немцев, которые, по ее мнению, наиболее известны и влиятельны среди ее диаспоры. Это Международный союз немецкой культуры (МСНК) и "профильные объединения, включая Немецкое молодежное объединение (НМО)".
Девушки рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о трагедии их семей в годы депортации. Елена Эмрих собирала сведения о своих предках из рассказов родственников, обращалась она и с запросами в архивы. Дедушка Елены - Николай Александрович - родился в 1930 году в городе Марксштадт (с 1942 года Маркс) Саратовской области. После издания 28 августа 1941 года Указа Президиума Верховного совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья семья Эмрих (мать Роберт Анна Ивановна и пятеро детей) в общей массе соотечественников была депортирована в Сибирь - в Томск.
"Моему деду было тогда 10 лет. К сожалению, их мама при переходе реки провалилась в ледяную прорубь и через какое-то время умерла. Троих детей из пяти забрали в детский дом, который располагался в селе Александровское на севере Томской области. Относительно моего прадеда (отца дедушки) Эммерих (первоначальная форма фамилии) Александра Андреевича известно только то, что его забрали сотрудники НКВД в 1938 году (репрессировали как врага народ). Там он, скорее всего, погиб, и могила его неизвестна", - рассказала Елена.
Дочь Александра Андреевича Елизавета (1926 года рождения) 2 августа 1955 года подала запрос в органы госбезопасности, пытаясь выяснить судьбу отца, - пояснила Елена. Женщина получила такой ответ: "Эмрих Александр Андреевич 5 августа 1938 года осужден на 10 лет лишения свободы, и место его нахождения неизвестно". За что был осужден прадед, какое обвинение было ему предъявлено, как погиб - ответы на эти вопросы семья так и не получила.
Николай Александрович рассказывал внучке, что когда он уже был взрослым человеком, то до реабилитации ежемесячно отмечался в отделе НКВД города Томска. Тогда он не имел права выезда, сообщила она.
"Даже есть документ, который он подписывал, о том, что понимает, что место ссылки покидать запрещается, а иначе - 20 лет каторжных работ. По документам из архивов у нас была немного другая фамилия. НКВД её сократил. Например, фамилия изначально была Эммерих. И имена немного другие были - немецкие. Дедушкиной старшей сестре Эмрих Елизавете и её мужу, Михаилу Веберу, было разрешено по болезни (после реабилитации) выехать в Казахстан", - рассказала Елена.
Мама Елены (1955 года рождения) и ее тётя Светлана Николаевна (195 года рождения) были реабилитированы. Тётя вспоминала, что ей сложно было адаптироваться в школе с немецкой фамилией. "Её называли фашисткой. Кстати, моего дальнего родственника и сейчас в школе буллили, называя фашистом", - возмутилась собеседница.
 Николай Александрович жил в Томске всю свою жизнь, в том числе после реабилитации. Там же он был похоронен. Так как у дедушки Елены было трое детей и семь классов образования, вопрос о высшем образовании не стоял. Он был рабочим на Томском мелькомбинате. Там Николай Александрович проработал практически всю свою жизнь. Супруга его (бабушка Елены) была русская. Так как она была единственной дочерью, родственников практически не было. "Бабушка осталась на своей девичьей фамилии при регистрации брака, дабы избежать отметки в комендатуре НКВД", - заметила Елена.
Николай Александрович жил в Томске всю свою жизнь, в том числе после реабилитации. Там же он был похоронен. Так как у дедушки Елены было трое детей и семь классов образования, вопрос о высшем образовании не стоял. Он был рабочим на Томском мелькомбинате. Там Николай Александрович проработал практически всю свою жизнь. Супруга его (бабушка Елены) была русская. Так как она была единственной дочерью, родственников практически не было. "Бабушка осталась на своей девичьей фамилии при регистрации брака, дабы избежать отметки в комендатуре НКВД", - заметила Елена.
"Удивительно, что преодолевая многие трудности и унижения, мой дед Эмрих Николай не хотел уезжать в Германию после реабилитации. Наверное, уже трудно начинать всё сначала. Да и немецкий язык уже был забыт", - заключила свой рассказ Елена Эмрих.
Уроженка Челябинска Алина Либерман рано лишилась родителей. С 10 лет ее воспитанием занимались бабушка Нэлли и дедушка Лев. Дедушка Алины Лев (Лео) Шиль родился в 1936 году в селе Гебель (Усть-Грязнуха). Сейчас это село административно относится к Камышинскому району Волгоградской области. Лев не был первенцем в семье Шиль. Первые дети умерли во время голода в начале 1930-х годов. Когда вышел указ Сталина о депортации, семья Шиль – отец Иван (Йохан), мать Кристина и новорожденный брат Александр - были отправлены в село Черлак в Омской области.
"В эшелоне людей везли, как скот. Было тесно, еды не хватало. Моя прабабушка была на последних сроках беременности тогда. Дядю Сашу она родила в сентябре уже в Черлаке. Каково ей было беременной с малолетним сыном на руках в том эшелоне, даже представить страшно. Дедушка вспоминает те дни, когда впервые оказался в полностью русскоязычной среде. Он не знал, как заговорить с местными детьми, как узнать у хозяев имя собаки. Но постепенно незаметно для себя освоил новый язык и стал свободно его использовать", - сказала Алина.
В скором времени прадеда Алины, как и других взрослых мужчин и женщин, отправили в трудовой лагерь Трудармии. Алининой прабабушке удалось избежать этого призыва, так как её младший сын Саша был младенцем. Тогда действовало предписание: если все дети в семье достигли трёх лет, то в Трудовую армию забирали и отца, и мать. "Так двоюродные сёстры моего дедушки трёх и пяти лет надолго остались на попечении соседей. Счастье, что порядочные люди помогли девочкам выжить, а оба родителя после войны вернулись живыми", - заметила собеседница.
Глава семейства был мобилизован в Трудармию, Лев, его брат Александр и мама остались в селе Черлак втроем. Жили на подселении у одинокой женщины, вместе с которой трудились и помогали друг другу выживать в тяжёлое военное время.
"Рыбачили, валили лес, заготавливали дрова, чтобы не замёрзнуть и прокормиться в сибирские морозы. Мужчин в селе почти не осталось, и всю работу женщины выполняли сами. Позднее Шиль жили при сельской больнице – прабабушка работала уборщицей, получая крышу над головой, хлеб, продукты. Дедушка, будучи ребенком, тоже работал – присматривал за лошадью главного врача: запрягал, водил на выпас, управлял повозкой, когда врач выезжала к пациентам на дом" - рассказала Алина о жизни предков в Сибири.
 Ее прадед Иван провёл три года в Трудовой армии в самой северной точке Свердловской области. По ее предположению, это был лесоповал. Условия там были "чудовищные, особенно в зимнее время". В довоенные годы прадед работал инкассатором: ездил в русские поселения, мог говорить и писать по-русски. Это помогло ему получить в лагере место писаря, уберегло его от тяжёлых работ. Он сумел выжить и сохранить здоровье. "В период ссылки прадед познакомился с молодой женщиной Диной, которая также находилась в этом лагере. У них завязались отношения. Когда закончилась война, а после и трудовая ссылка, прадед мог вернуться к семье. Его освободили 31 декабря 1945 года. К этому моменту Дина забеременела, и их отношения продолжились. Оба они оказались в Челябинске. Прадед разыскал свою жену и детей, перевез их из Сибири на Урал, выхлопотал комнату поблизости, чтобы продолжать заботиться о сыновьях. Конечно, семья Шиль была разрушена, прабабушка пребывала в отчаянии от разрыва с мужем, но, как рассказывают мои родственники, никогда не винила его. Она говорила, что во всём виновата война, и смиренно принимала эту данность. Но первое время просто приходила домой после работы, ложилась и не могла подняться", - рассказала Алина.
Ее прадед Иван провёл три года в Трудовой армии в самой северной точке Свердловской области. По ее предположению, это был лесоповал. Условия там были "чудовищные, особенно в зимнее время". В довоенные годы прадед работал инкассатором: ездил в русские поселения, мог говорить и писать по-русски. Это помогло ему получить в лагере место писаря, уберегло его от тяжёлых работ. Он сумел выжить и сохранить здоровье. "В период ссылки прадед познакомился с молодой женщиной Диной, которая также находилась в этом лагере. У них завязались отношения. Когда закончилась война, а после и трудовая ссылка, прадед мог вернуться к семье. Его освободили 31 декабря 1945 года. К этому моменту Дина забеременела, и их отношения продолжились. Оба они оказались в Челябинске. Прадед разыскал свою жену и детей, перевез их из Сибири на Урал, выхлопотал комнату поблизости, чтобы продолжать заботиться о сыновьях. Конечно, семья Шиль была разрушена, прабабушка пребывала в отчаянии от разрыва с мужем, но, как рассказывают мои родственники, никогда не винила его. Она говорила, что во всём виновата война, и смиренно принимала эту данность. Но первое время просто приходила домой после работы, ложилась и не могла подняться", - рассказала Алина.
Дедушка Алины с братом и мамой жили неподалёку от отца и его новой семьи. Отец не бросал сыновей, приносил деньги, продукты. Лев же помогал отцу в сапожном деле – вместе они шили тапочки и возили продавать их на рынок. Так Лев Шиль заработал себе на свой первый костюм, в котором он ходил в школу.
"После смерти Сталина с немцев постепенно снимали ограничения. Прадед с семьёй переехал из Челябинска сначала в Казахстан, где жили родственники его второй жены, а затем – в Калмыкию. Мой дедушка к этому моменту достиг призывного возраста и невероятно радовался тому, что российским немцам позволили служить в армии наравне с остальными гражданами. Этот призыв стал первым для молодых людей немецкой национальности, тем он был по-настоящему особенным для деда. Также отменили унизительные проверки нахождения по месту жительства. Теперь можно было свободнее перемещаться между городами. Раньше же, чтобы навестить родственников в Копейске (город, примыкающий к Челябинску), необходимо было получать разрешение. Теперь дед спокойно навещал родного дядю и его семью", - рассказала Алина.
Алина Либерман и Елена Эмрих подчеркнули, что после реабилитации предкам долгое время не разрешали возвращаться в места их былого проживания, все потерянное имущество - дома, земли - так и осталось в чужой собственности.
 Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, не соответствовал действующей тогда Конституции 1936 года, считает юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко.
Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, не соответствовал действующей тогда Конституции 1936 года, считает юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко.
"Согласно Указу было предписано: "произвести переселение всех немцев Поволжья", то есть умалялись права определённой национальной группы. Согласно же статье 123 Конституции: "Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, караются законом". То есть, Указ противоречил Конституции, и немцев Поволжья следует юридически считать незаконно репрессированными", - пояснил юрист.
Сама логика Указа, по словам Мельниченко, не выдерживает никакой критики и представлена логической цепочкой из трёх звеньев. Первое, есть достоверные данные, что среди немцев Поволжья есть диверсанты. Второе, немцы Поволжья не сообщают властям о диверсантах. Третье, если будут диверсии, то наши органы в ответ уничтожат всех немцев Поволжья без разбора.
"Вывод - для спасения немцев Поволжья от русских карательных органов их необходимо выселить. Вот такая иезуитская логика", - отметил Роман.
"Показательно, что с позиции международного права данное выселение не являлось правонарушением, так как международно правовой защитой пользуются только мирные граждане другого государства, попавшие под оккупацию. Немцы же Поволжья являлись гражданами СССР и на международную защиту не могли рассчитывать", - заключил Роман Мельниченко.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"